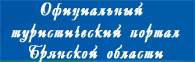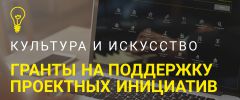Нет сомнения, что отсутствие после революции историко-культурного и собственно православного образования отрицательно сказалось на уровне образованности в России 20 века: трудно было развивать интерес и любовь к искусству, если ребенок не понимал, откуда это возвратился блудный сын и почему он стоит на коленях. И отчего это большие композиторы писали музыку под названием «Страсти по Христу», да и не объясняли в школе, что страсть и страдание по происхождению одно и то же слово.
Для того чтобы прививать детям любовь к своей стране, родной земле, необходимо преподавание в школах не столько основ религии (а такое мнение не раз высказывалось), сколько истории родной культуры. В идеале это должен быть фундаментальный, не разделяющий, а объединяющий общество курс, живой, свободный, с посещением музеев и картинных галерей, изучением компьютерных презентаций, с анализом художественных произведений.
Поэтому так перспективно, в частности, исследование связей больших произведений искусства с христианством, но необходимо подчеркнуть: важнее интерес именно к сути философской концепции, а не к поискам, как это иногда наблюдается, ответа на вопрос: следовал ли тот или иной художник церковным установкам, каким именно.
В связи с творчеством Бориса Пастернака это особенно интересно, так как:
- Его жизненная концепция не является христианством в чистом виде. Например, идея жертвенности имеет у Пастернака черты мифологии и иудаизма.
- Любовь к ближнему для него идея, которая объединяет любовь к близким.
- Сам религиозным канонам не следовал, важнее всего (и это доказал поэт всей своей жизнью) для него была нравственная основа религии.
…Кто из представителей старшего поколения, выходцев из бывшего СССР, не помнит побоища, которое устроило всесильное (но всего боящееся) государство великому художнику? Когда роман «Доктор Живаго», — а его Пастернак считал главным делом своей жизни, — был объявлен антисоветским. Когда под угрозой изгнания писатель был вынужден отказаться от Нобелевской премии. Когда в процессе всенародного обсуждения доярка могла начинать свое выступление словами: «Я роман Пастернака, конечно, не читала, но скажу…» И говорила… И говорилИ. Да так, что многие и сегодня хватаются за сердце при мысли, что протоколы тех собраний уже рассекречены и подшивки тех газет хранятся, любой может узнать, что и как они говорили. Рассказывают, что прекрасный русский поэт Борис Слуцкий так и не простил сам себя до конца жизни за подобное выступление. И нам всем, тогда не говорившим, — потому что удалось отмолчаться или по возрасту не успели присоединиться, — все же стыдно. Научились ли мы чему-то? В частности, у Б.Л. Пастернака.
Наиболее полно его нравственные искания и выводы отразил роман. Автор признавался: «Атмосфера вещи — мое христианство». Религиозные искания впитали ветхозаветную традицию семьи и русские народные православные представления (по слухам, его крестила нянька, от которой он и узнал первые толкования Нового Завета).
...«Единственное, что в нашей власти, — писал Б. Пастернак задолго до романа, — не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Этот голос, начиная с юношества, звал поэта к воплощению идей нравственности, основы он рано прозрел в идеях Христа.
Архивы хранят некоторые свидетельства его интереса к Христианству. Например, о рассказах Чехова «Студент», «Архиерей», «Святой ночью» Пастернак говорил: «Это в память о том… шел по морю как по суху».
В стихотворении «Рождественская звезда» — чистота и благовест мажорного тона, праздничность. Она сродни сравнению, прозвучавшему из уст героя романа Юрия Живаго: «Блок... явление рождества в русской жизни».
Образы нового света, свечения, которые вместе с рождением Христа приходят на землю, характерны для многих произведений Пастернака, они наполняют стихотворения романа, и это свет нравственной победы, нравственного превосходства. «Рассвет, как песчинки золы, Последние звезды сметал с небосвода». Это можно понимать так: звезды — тоже свет, но дохристианский, а потому истлевший (песчинки золы).
Другая близкая христианскому мировоззрению идея в том же стихотворении «Рождественская звезда» — идея тепла как непременного спутника света и мажорности («…его согревало дыханье вола, … ему заменяли овчинную шубу Ослиные губы и ноздри вола…»).
Общечеловеческая и историческая значимость рождения Христа — в повторении обобщающих слов и местоимений этого стихотворения: 4 строки с ВЕСЬ: Весь трепет, Все великолепье, Все злей, Все яблоки.
Разумеется, в верности идее света мифология и Ветхий Завет присутствуют совместно с Евангелием.
Сам Пастернак о своей религиозности: «Не в том смысле, что я верю в установленных формах, но мне нравится думать, что существование не случайно и не бесцельно, что у нашей драмы есть режиссер, который следит за ходом действия, направляет его и знает смысл, и что мне он отвел какую-то свою роль».
В связи с этими словами особенно интересно содержание стихотворения «Гамлет», одного из приложенных к роману в качестве стихов Юрия Живаго. Поэт и язык. Их отношения взаимообязующие, взаимопомогающие. Язык позволяет поэту сказать, что он думает о себе и мире. Поэт позволяет языку открыть, высвободить свои возможности. Приведем это стихотворение:
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
«Гамлет» открывает последнюю, семнадцатую часть романа, цикл, представляющий литературное наследие главного героя. И последнее, 26-е стихотворение, «Гефсиманский сад», — казалось бы, о том же: о предсмертной тоске и выборе, моление о чаше — и решимость испить эту чашу до конца, о смятении и смиренном приятии решения того, кто выше всех. Оба эти стихотворения — о Христе и, главное, об одиночестве человеческой души во Вселенной (вспомним, уважаемый читатель, пьесу Треплева в чеховской «Чайке»!), оба эти стихотворения, следовательно, — обо всех нас, о каждом из нас.
Завершенность циклу придает и идейно-тематическая перекличка стихотворений, и перекличка образной ткани. Из 26 стихотворений — 5 («Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», «Магдалина», 1 и 2) основаны прямо на сюжетах евангельских притч, три других — написаны по их, притч, мотивам, впечатлениям (кроме «Гамлета» — «На Страстной», «Август»). Но и в большинстве других стихотворений, даже через переносные значения слов, через образы и сравнения ощущается незримое присутствие мысли о Христе, ср.: «Но дымится жизнь в хлеву коровьем» («Март»); «…И пожар заката не остыл, Как его тогда к стене Манежа Вечер смерти наспех пригвоздил» («Объяснение»); «…Их потом на кровельном железе так же распинают чердаки» (там же); «Женщины в дешевом затрапезе…» (там же); «чаша горечи» («Осень»); «И лес раздет и непокрыт, Как строй молящихся стоит» («На Страстной»); «А я пред чудом женских рук…» («Не плачь…») и др.
Счастье и трагизм бытия, стремление осмыслить свое жизненное предназначение («Я чувствую за них за всех, как будто побывал в их шкуре», «Я ими всеми побежден, И только в том моя победа»), так свойственные стихам Живаго (напомним: авторство с которым разделил Б. Пастернак), его глубокая вера в силу слабости («Всей слабостью клянусь остаться в вас») — все это приводит поэта к Христу, однако не к религиозной умиротворенности, потому что в стихах, как увидим, сама мысль о Христе — лишь часть мысли о Человеке, его предназначении и добре.
В окончательной редакции фабула стихотворения «Гамлет» строится как развитие сюжета, начало которого предшествует непосредственному началу стихотворения. Ср.: «Гул затих…», заглянем в словарь: «Гул — не вполне ясный, сливающийся шум» (Словарь, т. 1, 356). Предмет, издающий гул, — за рамками контекста. Гул чего, какой? Что было до того, как затих? Ср.: в одной из первоначальных редакций было: «Вот я весь, я вышел на подмостки». Подобный прием, когда начало сюжетного действия предшествует началу произведения, характерен для 20 века, встречается, например, у Э. Хемингуэя, его эссе «Праздник, который всегда с тобой», посвященное Парижу, начинается словами: «А потом погода испортилась».
«Гул затих, Я вышел на подмостки…». Если соверш. вид глагола и сема «исчерпанность действия» в глаголе вышел стремительно выдвигают персонаж на авансцену разворачивающегося стиха, то следующие две строки как бы останавливают порыв, вносят элемент настороженной чуткости: «Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске…». Здесь у глагола несов. вид, действие, обозначаемое им, медлительнее уже потому, что не имеет завершенности. Замедлению темпа способствует также препозиция деепричастия, означающего здесь, по сути, не дополнительное (как это часто бывает для деепричастия), а равноправное и статичное действие. Интересно, что все окружающее героя пространство разворачивается перед читателем в горизонтальной плоскости, лишь сам лирический герой вертикалью выделяется на нем. Ср.: гул, подмостки, отголосок, с одной стороны, все это обнаруживает движение в пространстве, по горизонтали; с другой стороны — Я, вышел, прислонясь, дверной косяк, они характеризуют вертикаль, время. Отметим, что отношение к вертикали заключено в самой словарной дефиниции слова: «(дверной) косяк — каждая из боковых частей дверной рамы, стесанная наискось» (Словарь, т.2, 115). См. также В.И. Даль: «…колода, части закладной, оконной и дверной рамы, которая стесывается наискось» (т. 2, с. 174).
Вообще слова с корнем -кос очень распространены, и характерна направленность распространенности. По смыслу они составляют антонимические пары со словами с корнем, имеющим сему «прямой» ( ср.: платок, признак четырехугольника, прямые углы, и — его синоним: косынка, от косой, стесанные углы), соприкасаются с противопоставлением левый-правый.
Интересно, что в брянских говорах косынку называют хуста, хустка, хусточка, здесь в основу положен уже другой признак: первоначально хуста — кусок холста, который отрезался по всей его ширине, такой назывался ширинка; по функции это могла быть та же косынка, рушник, носовой платок, пояс, а также лоскут, вшитый в штанину, в мужских брюках.
Возможно, дверной косяк имеет и мифологическую нагруженность, достаточно вспомнить: «…Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю… То пусть приведет его господин его пред судей, и подведет его к двери или к косяку … и будет он служить ему на век…»(Исход, 5-6). И еще: «…Берегитесь, а то обольстится сердце ваше, и совратитесь вы. И станете служить богам чужим… Положите же эти слова Мои в сердце ваше… И напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих…» (Второзаконие ХI, 16–18).
Еще одна деталь. То словосочетание, которое в русском варианте Библии звучит как «дверной косяк», на иврите — mezuza, небольшой ящичек, в который вкладывается пергамент с библейскими текстами из раздела Торы, раздела, развивающего тему обязательного соблюдения завета — соглашения, заключенного между Богом и Израилем (чтение этих отрывков составляет главное содержание утренней и вечерней молитвы). Такой ящичек по традиции прибивается в каждом доме к дверному косяку и выполняет роль оберега, одновременно напоминания о священных обетах.
Добавим, что важной является и определяющая часть — дверной, т.к. дверь — «общсл., возможно соотнесено с лит., через чередования гласных возводится к двор, ворота (Фасмер, т.1), а это понятия, игравшие огромную роль в христианской мифологии и фольклоре. Последнее может быть подтверждено загадкой, приводимой в собрании В. И. Даля: «Двое стоят, двое лежат, пятый ходит, шестой водит» (дверь). Обратим внимание, что и здесь использовано противопоставление горизонтальной и вертикальной плоскостей.
Данное противопоставление поддерживается в тексте стихотворения «Гамлет» многократным оксюморонным столкновением векторов описываемых действий: движения, исходящие от лирического героя, «от подмостков», идут как бы навстречу всему, что исходит от окружения, ср.: Я ловлю — На меня наставлен.
Особой значимостью наполнены при этом две последние строки. Предпоследняя: «Я один, все тонет в фарисействе…» — здесь пространственная характеристика нейтрализована (прежде всего, отвлеченным характером существительного), чем подчеркивается обособленность, одиночество героя.
Как известно, фарисеями называла себя партия, возникшая во 2 в. до н. эры, члены которой верили в воскрешение из мертвых и придерживались соблюдения чистоты ритуалов. В самом начале века фарисеями были раввины, в противопоставлении Христа именно они отнесены к нечистым.
Последняя: «Жизнь прожить — не поле перейти» — здесь соединены оба вектора, и представлена разновекторность противопоставлением вертикаль — горизонталь: жизнь и переход поля, они имеют, кроме пространственного, вектор времени. Из прошлого через настоящее в будущее, но, объединенные гипотетичностью самого факта движения, именно пространственным фактором они различаются.
Присутствие Христа в «Гамлете» не сформулировано, от него, кроме жалобы на фарисеев, — мольба: «Авва Отче! Чашу эту мимо пронеси!» В стихотворении совмещены как тождественные с судьбой и предназначением Иисуса судьба лирического героя романа, Юрия Живаго (а значит, и самого Пастернака), героя трагедии Шекспира «Гамлет», актера, стоящего перед задачей воссоздания сложнейшего образа, следовательно, — вообще любого Художника. Дверной косяк, к которому прислоняется вышедший один на один с миром герой стихотворения, — это, конечно же, фрагмент сцены, но одновременно и место, где молитва-оберег, и опора, довольно призрачная, если учесть, что это часть декорации и что прислоняется он не к двери в целом, а лишь к дверному косяку. Одновременно дверной косяк — некая граница (вертикаль!) между миром героя и фарисейством (прислонясь, ловлю — на меня наставлен).
Обратим внимание, что, говоря об актере, Б. Пастернак имеет в виду не только собственно артиста как исполнителя театрального действа, но Артиста, Художника как любого служителя искусства, в произведениях Пастернака это поэт, живописец, скульптор, музыкант, есть у него и обобщающие наименования: «исчадья мастерских» («Пиры»).
Но самый первый план в «Гамлете» — конечно же, актер и сцена.
Именно этому плану подчинена прежде всего лексика и фразеология:
«Гул затих» — не правда ли, как созвучно «зал затих», то его состояние, когда поднимается занавес? И далее: подмостки, роль, распорядок действий, драма. Но у всех этих наименований просматривается и образное значение, и прежде всего оно касается имплицитно присутствующей лексемы «актер» (имплицитно потому, что имеем дело со случаем — опять театральные ассоциации! — когда «короля играет свита»): в обыденном употреблении мы чаще говорим «артист», имея в виду не только того, кто занимается публичным исполнением произведений искусства и даже не только того, кто обладает высоким мастерством в какой-то области (см. Словарь С. И. Ожегова). Ведь и во многих других языках — artist — художник, представитель любой из творческих профессий может быть назван артистом, ср. англ.: artist — «1. художник … 2. артист» (Новый англо-русский словарь).
Вспомним, что слова артист, актер, а также другие из круга театральной лексики, именующие атрибутику людей творческих профессий, Б. Пастернак использует часто именно в таком обобщенном значении: «Не спи, не спи, художник…», «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют», «…не читки требует с актера, а полной гибели всерьез».
Интересно, что в стихотворении Пастернака «Дрозды» есть строки: «Таков притон дроздов тенистый, Они в неубранном бору Живут, как жить должны артисты, Я тоже с них пример беру». Здесь явная перекличка с появившимся несколько позже «Гамлетом», перекличка в плане ассоциаций из области «артист-художник», «источник вдохновения и непременность платы за него» (« Наверное, из этих впадин и пьют дрозды, когда взамен раззванивают слухи за день…»).
Подмостки — это не только место развертывания театрального действия и даже не только метафора жизненного пространства, это еще и наиболее освещенное, видное и в то же время наиболее опасное место. В своей ранней повести «Апеллесова черта» Пастернак прямо указывает на возможность такого толкования, делая это устами персонажей, ср.: «…мы всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения…» ; «в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы … Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями…» (Пастернак, т. 4, 14). Как видим, поэт обыгрывает этимологию слова: подмостки через мост, постараемся показать, что вся намеченная здесь атрибутика образа получила воплощение в «Гамлете»: здесь и подмостки, и роль, и игра. И тревожная освещенность, которая «включается» с первых строк, тоже здесь частично от театра («На меня наставлен сумрак ночи….»).
Актер, сцена, незащищенность — понятия для поэта знаковые, в «Гамлете» они не только не случайны, они не одноплановы: поэт заявляет всерьез, что не только служение искусству требует самоотдачи («цель творчества — самоотдача»), но любая честная, бескомпромиссная жизнь — всегда своего рода драма самопожертвования.
А почему именно Гамлет? На мой взгляд, не только потому, что, как отмечается с опорой на текст в примечаниях к роману, «Пастернак соотносит стихотворение … с городской темой», что «город как необозримое огромное вступление к жизни каждого из нас», не только потому, что Гамлет — это Шекспир, так много поведавший о жизни и так много значивший в судьбе самого Пастернака. И даже не только потому, что ведь это Шекспир сказал: «Весь мир — театр и люди в нем актеры». Все это, несомненно, присутствует, но особенно важно (и поэт обнаруживает это тканью стиха): Гамлета сближает с Христом стремление во что бы то ни стало исполнить волю отца и, в то же время, исполнить не тупым послушником, а стать сознательным носителем идеи.
Сближение Христос — Гамлет — Актер на путях поисков истины для Пастернака логично и естественно. Задолго до анализируемого стихотворения поэт писал родителям: «…как перерождает, каким пленником времени делает эта доля. Это нахождение себя во всеобщей собственности … Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России, когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за любовь» (Из собр. семьи). В унисон со сказанным звучат слова о художнике, который «вечности заложник у времени в плену», и о том, что на вышедшего на авансцену направлен сумрак ночи тысячью биноклей.
Таким образом, из строчек стихотворения встают перед нами, одна в другой, драма литературного героя — и играющего его роль актера, драма лирического героя — и автора, драма Художника — и Христа, что способствует в результате созданию триединого образа Человека в его противостоянии Злу, ведь Зло — это и безразличие, и косность, и недальновидность, фарисейство имя ему в «Гамлете», как и у носителей Зла в «Евангелии», откуда пошло значение «ложь, лицемерие, ханжество».