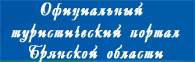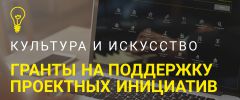Б. Рассел сказал как-то, что все слова делятся на две группы: в одной такие, как ЛЕВ, в другой — такие, как ЭТО. Можно взять ребенка за руку, повести в зоопарк и показать, что такое ЛЕВ. Но нет такого зоопарка, чтобы показать, что значит ЭТО.
Возможно, третью, отдельную группу составляют слова «на поэтической службе». «…часто в поэзии, — заметил Ю. М. Лотман, — слово оказывается не равно самому себе» (1, с. 182). Так и в этом стихотворении:
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
Не только зоопарка такого нет, словарь такой трудно сделать, в котором можно точно сформулировать: что происходит в этом стихотворении с каждым словом, которое — на поэтической службе у Ф. И. Тютчева.
Ну хотя бы слово ЕСТЬ. Или ЗОВЕМ. А тем не менее невозможно и представить, что кого-то оставят равнодушным эти стихи… Что в них?.. Вслушаемся и вдумаемся…
Начнем со слова ЕСТЬ. Оно здесь вовсе не для утверждения существования, бытия, оно, конечно же, сообщает о наличии, встречаемости (см. 2, т. 1, с. 130), но важнее, что одновременно это своего рода антипод, контекстуальный антоним НЕ (вспомним для сравнения о приеме параллелизма народной поэзии: «То не ветер ветку клонит… то мое сердечко стонет…»), что привносит отчетливо индивидуальный оттенок в семантику.
Что касается глагола ЗОВЕМ, то семантический компонент «называние» так поглощен здесь неглагольной функцией глагольной формы (о чем подробнее далее), что сближает, почти идентифицирует значение с глаголом бытия.
Да и все стихотворение — несомненно, не просто описание осеннего вечера, сошлемся на Н. А. Некрасова, приводившего его в доказательство «удивительной способности» Тютчева «охватывать характеристические черты картин и явлений природы» (3 , с. 250). Характеристичность здесь прежде всего в том, что выразительно воссозданное состояние природы получает в последней строке точное и концентрированное название: божественная стыдливость страдания. То состояние, которое подглядел, почувствовал поэт в природе, напомнило ему одно из тонких душевных состояний, свойственных человеку.
Предельная психологическая точность и индивидуализированность характеристики через соотнесение момента окружающей жизни с тончайшим душевным состоянием достигается за счет высокой степени антиномичности и обобщенности, реализуемых с помощью различных языковых средств.
Прежде всего важно, что центральная для стихотворения антиномия, через двойной оксюморон выраженная мысль о божественной стыдливости страданья, как свеча в системе зеркал, множится всем строем стихотворения. Точнее сказать, весь строй стихотворения, предваряя, готовит к восприятию этой мысли-характеристики.
Для выявления сущности антиномичности вначале рассмотрим подробнее семный состав указанного тройственного союза. Ядром его, как и второй после светлости ядерной лексемой всего произведения, является, несомненно, лексема страданье. Семантический компонент нравственная боль (2, т. 4,с. 280) выступает той первоосновой, на которой возможно сближение лексемы страданье с лексемами божественный и стыдливость, т.к. боль, нравственное страдание сопровождают и чувство стыда (ср.: «…чувство сильного смущения, неловкости от сознания предосудительности, неблаговидности своего поступка… чувство моральной ответственности за свое поведение». Там же, с. 296), и страдание, а с божественным страданье связывает прежде всего первозданность для него евангельского контекста.
Наиболее важным для понимания анализируемой тютчевской формулы является тот компонент значения лексемы стыдливость, который определяет это качество как страдальческое стеснение. Застенчивость, таким образом, стыдливость страдания — это хотя и оксюморон, но одновременно характеристика страдания особого свойства, которое наполнено просветленностью, когда нет и тени упоения собой страдающим, страдание неэгоистичное, такое, когда больше всего страдающий не хотел бы обременять ни собой, ни своим страданием других.
Сходство оттеняет элементы взаимоотталкивания: с одной стороны, божественное и стыдливое противостоят друг другу как высокое и низкое ( обратим сразу внимание, что такое противопоставление поддерживается контекстуальными антонимами лазурь — земля); стыд и страдание отталкиваются друг от друга семантическими компонентами: наличие причины, заслуженность боли при чувстве стыда ( результат предосудительного поступка) — возможное и даже частое отсутствие такой заслуженности при страдании. И поскольку речь не собственно о стыде, а о стыдливости, сочетание с божественной благодаря своей оксюморонной сущности позволяет увидеть в описанном еще одно особое свойство: божественная стыдливость — это прежде всего скромное, незамутненное себялюбием страдание, следовательно, это страдание божественное, т.е. возвышенное (известный факт: цитируя это стихотворение в своей статье о Тютчеве, Н. А. Некрасов изменил последний стих, было напечатано: Возвышенной стыдливостью страданья, и, как отмечает исследователь, в таком виде «Осенний вечер» перепечатывался в прижизненных и посмертных дореволюционных изданиях. См. 4, с. 507).
Отметим попутно, что в полном соответствии с так понимаемыми скромностью и незамутненностью себялюбием назван в стихотворении человек — «существо разумное»: это не самоунижение, здесь не только внимание к общности чувств и процессов, но и признание своего равенства, слитности ( существо как имеющее отношение, равное всему сущему), единства с природой.
Светлость вечеров, зловещий блеск, туманная и тихая лазурь, улыбка увяданья — вот только часть тех зеркал, в которых, как отмечалось, множится антонимичность заключительной формулы.
Вечер — «…время суток от окончания дня до наступления ночи» (см. 2, т. 1,с. 159), содержит, следовательно, сему близости к темноте, которой отталкивается от светлости (см.: «…от …наполненный светом, блестящий, излучающий блеск, там же, т. 4, с. 46–47). Светлый, отмечает словарь, это еще и «умиротворенный, просветленный» (там же), что сразу устанавливает для нас дополнительные связи с формулой последней строки и с другими элементами стиха, в частности, с эпитетом умильная.
Отметим, что не только семантика лексемы светлость важна для всего произведения, фонетическим обликом ее, как камертоном, задан ритм стихотворения, звукообразом /(О)СТЬ \ , повторяющимся (иногда чуть варьирующимся) «прошиты» строфы, ср.:еСТЬ, прелеСТЬ, лиСТЬев, стыдливоСТЬю, а также — таинСТвенная, пеСТрота, в сущеСТве, груСТная, божеСТвенно, СТраданья.
Блеск противопоставлен зловещему своей положительной оценочностью ( ср.: блеск — яркий, сияющий свет, сверкание; зловещий — от зло, дурное, плохое, там же, т. 1, с. 97, 611). Важно подчеркнуть, во-первых, что кроме связи со злом в зловещий есть смысл: «свидетельствующий о приближении, наступлении чего-то дурного, тяжелого, какой-то … беды…служащее дурным предзнаменованием» (см. там же, с. 612), а это, как и предшествующее сочетание, контактирует с упоминанием о предчувствиях, бурях, ветре; во-вторых, в лексеме блеск подспудно присутствует сема пышности, великолепия, что, отталкиваясь от зловещий, в то же время делает понятнее таинственность.
…Самый прозрачный и легко читаемый из оксюморонов стихотворения — туманная и тихая лазурь: туманность вроде бы явно противоречит той прозрачности, которая характеризует светло-синий цвет безоблачного неба, но на самом деле образ содержит точную характеристику, представляя ту волнистость, мглистость, которая может появляться у лазури на фоне полной освещенности (светлости).
Эпитет тихая тут интересен, с одной стороны, своей антонимичностью по отношению к «агрессивности», яркости света, так он сближается с туманностью, а с другой — тройственность оксюморона опять относит нас к тройственности последней строки.
Увядание семой потери, лишения, некоторой осторожной (осторожной благодаря тому, что не от увянуть, а от увядать: нет безысходности совершенного вида) направленности к смерти (ср.: «… от …увядать… лишиться свежести, утратить молодость…, там же, т. 4, с. 454) тоже не очень связывается с улыбкой («… движение мышц лица… показывающее расположение… выражающее привет…, там же, с. 488). Но, как и в других анализированных случаях, самое важное и в этом оксюмороне — не взаимное отрицание, а создаваемые новые смыслы. В данном контексте улыбка увядания — все та же умиротворенность, просветленность, о которой говорится в стихотворении и которая — над ущербом, изнеможением.
Разумное существо, словесно возникающее в предпоследней строке, незримо присутствует уже с первой: ведь такие обобщенные качества, как светлость, умильность, таинственность — плод не просто наблюдения, а осознанного обобщения, работы мысли, которую вносит в природу только существо разумное (ср.: белый снег — констатация факта; прилагательное белый вне приложения к предмету — уже ступень обобщения, уже метафора, как считал А. А. Потебня, а белизна — это высшая ступень абстракции).
Эта мысль была дорога Тютчеву, вспомним: Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих — лишь грезою природы.
Казалось бы, для Тютчева естественнее было бы сказать, что человек — греза Бога, но нет, сказано — природы. Человек для Тютчева — дитя природы.
Если светлость, блеск, багряность листьев — объективно существующие компоненты действительности, то умиление, таинственность, прелесть не существуют без воспринимающего, должен быть кто-то, так увидевший.
На все стихотворение — два глагола. И каких? Есть и зовем, о которых уже частично говорилось. Собственно действия, описательного движения они не представляют. Формально относящие нас к настоящему времени, обе грамматические единицы не означают даже обычного, в принципе возможного или повторяющегося действия, т.е. называют процесс, который непосредственно для данного момента таковым не является, представляя, таким образом, скорее не процесс, не действие, а состояние.
А тем временем мы видим: в стихотворении — все в непокое, в движении реальном. Оно, это движение, не создано в стихе специально предназначенными для такой роли глаголами, исходит, во-первых, от отглагольных существительных, которых много (блеск, шелест, предчувствие, изнеможенье, увяданье, страданья), от существительных, семантически неотделимых от движения (ветр), исходит от причастий (грустно-сиротеющей, сходящих) и отглагольных прилагательных (порывистый).
Кроме того, как уже отмечалось по отношению к слову увядание, сема подвижности может задаваться исконными свойствами корня (глагол несовершенного вида); точно так же подвижность придает корень глагола несовершенного вида причастию сходящих.
Важна для создания указанного эффекта качественность прилагательных (тихая, порывистый, холодный и др.), которых — большинство, своей заряженностью на возможность степени они тоже создают потенцию движения.
Непокой, свойственный всякому страданью, — и в далеких на первый взгляд от обозначения движения словах, ср.: пестрота — быть пестрым, пестреть, часто попадаться на глаза, т.е. налицо переменчивость, заданность ритма, так свойственные процессности. Практически каждое слово, даже служебные части речи стихотворения, участвует в создании эффекта подвижности.
И если в наречии порой этот семантический компонент очевиден (ср.: периодически, иногда), то в таких словах, как ущерб, изнеможенье разглядеть его не совсем просто. Но тем не менее есть оно и здесь.
Ущерб (здесь: «…ослабление, уменьшение, спад», там же, т. 4. с. 546) тяготеет к процессности именно своей семой незавершенности, нерезультативности, а изнеможение, толкуемое словарем как «состояние крайнего утомления…» (т. 1, с. 650), имеет эту процессность, так сказать, «в анамнезе» (крайнему утомлению предшествовал обязательно какой-то период, к нему надо было прийти).
Добавим, что есть в стихотворении элементы, участие которых в создании эффекта движения обеспечивается как раз соотнесенностью с семой временного или пространственного членения, таковы, например, кроме уже отмечавшегося порою, — вечера, на всем, над.
Все элементы, представляющие движение, — дополняют, находятся в полном соответствии с семантическим наполнением лексемы страдание, чем довершают картину ее единства\ противоположенности с лексемой светлость, которая, кажется, одна обозначает покой, состояние, противостоящее изменчивости, непокою.
Возможно, частично символизируя некую надежность, устойчивость, прочность?..
Литература
- Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман. — Л. : «Просвещение», 1972.
- Словарь русского языка в 4-х тт., под ред. А.П. Евгеньевой. — М., изд-во «Русский язык», 1982.
- Некрасов, Н. А. Полн. собр. соч. и писем / Н.А. Некрасов. — Т. 9. – М. : Гослитиздат, 1950.
- Тютчев, Ф. И. Стихотворения. Письма /Ф. И. Тютчев. – М., 1957.