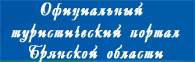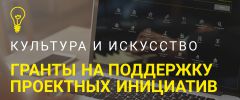Через века – потому что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, а, читая, перечитывая написанное им, невольно соотносишь свои впечатления с чем-то, что привлекает внимание в литературной современности.
В частности, мне показалось интересным рассказать нашим читателям о некоторых чертах похожести, которые обнаруживаются, – каким бы странным на первый взгляд это ни показалось, – между «Стихотворениями в прозе» И.С. Тургенева и «Эссе» И.А. Бродского.
Как известно, в «Стихотворениях в прозе» Тургенев изложил итог своих представлений о важных проявлениях жизни. Об этом же и в стихах, и в эссе не раз писал Бродский. На заданный самому себе в связи с сорокалетием вопрос: «Что сказать мне о жизни, что оказалась длинной?» И. Бродский принимался отвечать не раз. И в итоговых размышлениях двух виднейших представителей русской литературы можно заметить общность не только содержательных, но и языковых подходов к явлениям, касающимся смысла существования природы и человека, понимания смерти, проблем религии и особенностей народного менталитета.
Рассмотрим подробнее некоторые из этих пересечений.
Широкому читателю хорошо знакомы лишь несколько из «Стихотворений в прозе», прежде всего, о русском языке, все учили наизусть в школе: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!..» Но не меньше достойна внимания и любая другая из миниатюр, все они, по единодушному мнению писавших, анализировавших, соединили в себе высшие, итоговые достижения философии и художественных принципов одного из величайших русских классиков.
Первые записи стихотворений датируются 1877-1879 гг., первое издание – 1882 г.; упоминая эти даты, хочу подчеркнуть: целиком произведение предстало перед читателем всего за год до смерти писателя! Так что слова «итоги размышлений», «квинтэссенция философии» – не просто метафора.
Главными темами сборника стали размышления о смысле жизни, доказательствах бытия Бога, вере, религии, отношениях к пространству и времени. Говоря коротко, «Стихотворения в прозе» – это выраженная художественными средствами уверенность писателя в том, что, несмотря на конечность существования, обречённость человека, несмотря на всесильность жестких законов Природы и общества, Жизнь во всех её проявлениях имеет несомненную ценность.
И читая эти тургеневские миниатюры, понимаешь правоту мнения одного из общепризнанных современных поэтов-философов – Иосифа Бродского, отметившего в «Предисловии к антологии русской поэзии XIX века», что на страницах книг периода русской классики можно обнаружить «почти все прозрения и идеи, которые наш век объявил своими достижениями». Предшествующее столетие, по мысли Бродского, «посрамляет нынешний уровень способности к продолжительному вниманию», человек XIX века больше может «рассказать нам о себе, о своих душевных и умственных обстоятельствах». Тургенев – один из лучших тому примеров, и не только своими романами, но и стихотворениями позволяет нам учиться заглядывать в душу к человеку.
Интересно, что и Бродский своими произведениями, в том числе эссеистикой, продолжает лучшие из традиций века минувшего. Серьезных философских вопросов он не избегает, поучительно поэтому, в частности, обратиться к анализу его текстов, обнаруживающих не только удивительную перекличку с идеями «Стихотворений в прозе», не только черты существенного для нас его с классиком единомыслия, но и сходство средств художественной выразительности.
Один из современников И.С. Тургенева сказал, что «Стихотворения в прозе» – «…ткань из солнца, радуги, алмазов, женских слез и благородной мужской мысли…» (Примечания к «Стихотворениям в прозе», Собрание сочинений, 1987).
Об одноприродности «Стихотворений в прозе» и эссеистики И. Бродского свидетельствует, например, похожесть приёмов ритмизации текста, потому что у каждого находим повторение слова сквозь текст, или повторение начального и последнего слов текста, или повторение в началах периодов. Еще общая черта: часто используются и Тургеневым, и Бродским зеркальная симметричность композиции, аллитерации, диссонансы, внутренняя рифма. Например, у Тургенева важна роль повторения эпитета в миниатюре «Лазурное царство», ср. её начало: «О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья!»; через абзац читаем: «Я видел кругом одно безбрежное лазурное море… а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо!» И наконец, последняя фраза: «О лазурное царство! Я видел тебя… во сне». Соответственное находим у Бродского – подобное использование повтора лексемы рай в эссе: «Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик…» (Послесловие к «Котловану» А. Платонова.)
Как для Тургенева, так и для Бродского важна была композиция произведения, о последнем свидетельствует, например, один из близких его друзей, поэт А. Найман. Он приводит строки письма к нему И. Бродского: «…Надо строить композицию… нужно привыкнуть картину видеть в целом… Композиция, а не сюжет… Ведь и сама метафора – композиция в миниатюре…жизнь отвечает не на вопрос что? А: что после чего? И перед чем?..» И тут обнаруживается подчеркивающее различие: если композиция стихотворений Тургенева – всегда переход от повествования о лирическом событии, которое существует как бы вне времени и пространства, – к философскому размышлению, то И. Бродский каждый эпизод эссе поднимает над моментом изображения, представляет его независимым от эпически-событийной объективации и личного опыта автора.
Посмотрим внимательнее на специфику обозначенных подходов. В миниатюре «Нищий» мы видим в начале, казалось бы, абсолютно объективную констатацию – перед нами кусочек грустной действительности: «Я проходил по улице… меня остановил нищий дряхлый старик». Оказалось, что у автора в этот момент было совершенно пусто в карманах. Нечего было подать. Смущенный, сожалеющий, он пожимает с извинениями руку бедняге. И неожиданный оборот: этот несчастный понимает, успокаивает его: «Что же, брат, – прошамкал он, и на том спасибо…» И – последняя фраза миниатюры, она только внешне спокойна: «Я понял, что и я получил подаяние от моего брата». Концовка такого рода дает понять, какой важный жизненный урок может неожиданно получить человек, и одновременно обнажает истоки складывания характера. Видимость авторского спокойствия, его намеренная безэмоциональность делают абсолютно ясным: ему дорога и понятна человечность в ее самом безнадежном проявлении.
Несколько иное построение у большинства эссе Бродского. Для него характерен мозаичный стиль, где отдельные мысли и импрессионистические наблюдения сталкиваются, заставляя воображение читателя работать в одном направлении с воображением автора. У Бродского нет общих картин в начале произведения, но описание удивительным образом складывается в целостную картину из огромного количества деталей, не затмевая при этом особенности каждой из них.
Общими мотивами миниатюр и Тургенева, и Бродского являются время, пространство, смерть, возникают и религиозные сюжеты и, конечно же, – люди, их судьбы, в разное время дня и года. Бродский, например, проводит параллель Бог – вода – время, а Тургенев в стихотворении «Собака» приходит к выводу: «…и в животном, и в человеке одна и та же жизнь жмется пугливо к другой». Похожесть можно видеть и в том, как и стихотворениями И.С. Тургенева, и эссе И. Бродского одномоментные движения души или мгновенные прозрения объединяются в картины цельной внутренней жизни каждого из авторов.
Обратим внимание еще на два важных параметра содержательного сходства их произведений.
Первый – сходство в подходах к темам общественно-политическим, наличие в сравниваемых произведениях жизнеутверждающих мотивов общечеловеческого и демократического звучания, в которых правдиво показан простой человек, воздается должное его доброте, подвигу терпения, самосознания и достоинства. Такие миниатюры Тургенева, как «Щи», «Маша», «Два богача», давно стали хрестоматийными, а многие выражения из них, свидетельствующие о нравственной высоте, духовном превосходстве главных героев, стали афоризмами. Когда на удивленный вопрос автора к женщине, только что похоронившей мужа: как она при таком горе может есть, та отвечает: «Вася мой помер… Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные» («Щи»).
В названных выше и некоторых других миниатюрах Тургенева перед нами предстает человек, в поведении которого, в каждом проявлении такая нравственная чистота и привлекательность, которой хочется поклониться. Вспомним и перечитаем, например, стихотворение «Маша»: «Проживая – много лет тому назад – в Петербурге, я, всякий раз как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу. Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой – в надежде и самим прокормиться и собрать на оброк господам. Вот однажды нанял я такого извозчика... Парень лет двадцати, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, щеки румяные; русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапоньки. И как только налез этот рваный армячишко на эти богатырские плеча! Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым. Разговорился я с ним. И в голосе его слышалась печаль. – Что, брат? – спросил я его. – Отчего ты не весел? Али горе есть какое? Парень не тотчас отвечал мне. – Есть, барин, есть, – промолвил он наконец. – Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла. – Ты ее любил... жену-то свою? Парень не обернулся ко мне; только голову наклонил немного. – Любил, барин. Восьмой месяц пошел... а не могу забыть. Гложет мне сердце... да и ну! И с чего ей было помирать-то? Молодая! здоровая!.. В един день холера порешила. – И добрая она была у тебя? – Ах, барин! – тяжело вздохнул бедняк. – И как же дружно мы жили с ней! Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили, – сейчас в деревню поспешил, домой. Приехал – а уж за́ полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: «Маша! а Маша!» Только сверчок трещит. Заплакал я тутотка, сел на избяной пол – да ладонью по земле как хлопну! «Ненасытная, говорю, утроба!.. Сожрала ты ее... сожри ж и меня! Ах, Маша!» – Маша! – прибавил он внезапно упавшим голосом. И, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами – и уж больше не произнес ни слова. Слезая с саней, я дал ему лишний пятиалтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, – и поплелся шажком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза».
В этом стихотворении перед нами беззащитный, задавленный нуждой (не случайно так трогательно благодарен он за «лишний пятиалтынный») и убитый горем человек, но как горд и красив он в своей большой любви к безвременно ушедшей жене, какую высоту, способность к переживанию видим в нём.
В другом стихотворении поражает человечность и достоинство, с которым «убогое крестьянское семейство» размышляет над необходимостью взять к себе сироту-племянницу. Прежде всего, отметим использование упоминаемого ранее приема – повтор, «пронизывание» ключевыми словами (здесь это два словосочетания, которые становятся опорой смысла) всего текста. Называется произведение «Два богача», причем горькая ирония и двусмысленность заглавия становятся понятными лишь в конце. Начиная свой рассказ признанием: «я хвалю и умиляюсь», когда превозносят богача Ротшильда за его благотворительные поступки», автор продолжает: «…но, хваля и умиляясь», не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе», и рассказывает: «Возьмем мы Катьку, – говорила баба, – последние наши гроши на нее пойдут, не на что будет соли добыть, похлебку посолить… – А мы ее… и не соленую, – ответил мужик, ее муж». И тут имя богача повторяется, подытоживая рассказ: «Далеко Ротшильду до этого мужика!»
Таким образом, дважды повторенное в тексте «хвалю и умиляюсь», так же, как реприза «богач Ротшильд» позволяют читателю ощутить притчевый смысл миниатюры: разного наполнения хвалы и умиления положены разным персонажам. Как и разные богатства имел в виду Тургенев, называя стихотворение «Два богача».
При чтении этого и подобных произведений Тургенева о стойкости и душевном благородстве простых людей, невольно вспоминается миниатюра И. Бродского, посвященная одному из эпизодов времени его пребывания в тюрьме. Сумев терпеливо и достойно вынести все тяготы суда, мужественно встретив весть о наказании (об этом имеются подробные свидетельства, см., в частности, исследование Полухиной), поэт, оказавшись сам в ужасном положении, в грязном, переполненном «блатарями» тюремном вагоне, не замыкается в своем несчастье, находит в себе силы на жалость и сочувствие, бессильно и горестно думает о тех, чей социальный статус обусловливает безграничность незащищенности, безнадежность и бесперспективность их жизни: «Вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик – ну, как их какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой же – эти мозолистые руки, борода. Всё как полагается. Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрёт. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек – ни в России, ни на Западе – на его защиту не подымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает. … А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут: «Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было». И когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер!»
К мысли о ценности жизни, о том, что именно человек является важной частью земного существования, Тургенев обращается в своих миниатюрах не раз, ярче всего эта мысль представлена в стихотворениях «Порог», «Конец света» и некоторых других. В миниатюре «Разговор» мы видим в начале казалось бы абсолютно объективное, ничего важного не предвещающее описание кусочка действительности. Вечную жизнь олицетворяют Юнгфрау и Финстерааргон, вершины Альп, через беседу которых в этой миниатюре автор представляет точку зрения горных вершин: они выступают здесь как вершители судеб, присвоившие вселенское право решать, что хорошо, что плохо. Жёстко и снисходительно взирают они сверху на людей, называя их «копошащимися козявками». Вершины Альп, сильный мороз, суровые глыбы обледенелых скал – и вдруг такой неожиданный переход: скалы размышляют о людях, о жизни, и резюмируют, предсказывают всему этому столь же ледяной, бесчувственный конец: холодное очищение при освобождении от людей: «…теперь хорошо… опрятно стало везде… застыло все…». Чем холоднее и спокойнее рассказывает об этом автор, тем очевиднее: ему чужда и ненавистна человеконенавистническая позиция говорящих скал: чисто и опрятно, говорят они, становится в мире, лишь когда исчезают люди. «Сильный, жесткий мороз; твердый, искристый снег», «бело, холодно», «застыло все. Хорошо теперь, спокойно».
Горьким сарказмом звучат эти реплики: без человека, призывает нас понять Тургенев, – в мире пусто и холодно, мертво, конечным овеществлением смерти представлен сон этих каменных вершин. Семантика сарказма поддерживается напрашивающимся оксюмороном: белизна, чистота смерти, которая перекликается с «тьмой кромешной».
Заметим попутно, что тема мертвящего холода сквозной линией проходит через многие миниатюры, везде сопровождая мысли о неизбежности смерти указанием на ее отделенность от жизни, невозможность примирения с ней (ср.: «Смерть налетит, махнет на него своим холодным крылом» («Собака»); «Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной» («Конец света»)).
Только растения, животные, человек придают смысл сущему, – утверждает этими произведениями писатель, жизнь – вовсе не холод, это свет и тепло, огонь, объединяющие человека и каждое из живых существ: «Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек!» («Собака»).
Аналогично и мир И. Бродского – это мир, освещенный ценностью человеческой жизни, где, кроме связи живых существ, существует связь времён, связь между временем нынешним, прошлым и будущим. Как бы вступая в спор с вершинами Альп, Бродский настаивает на уважительном восприятии человека, освобождает его от статуса «копошащейся козявки»: «Жизнь на три четверти – узнавание Себя в нечленораздельном вопле …Человеческий выбор на сегодняшний день лежит не между Добром и Злом, а скорее между Злом и Ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве Зла, а не стать самому его, Зла, носителем» («Проза и эссе»).
Под ужасом Бродский понимает грозящую в наши дни человечеству возможность самоуничтожения, он ощущает трагическую конечность сущего и поэтому, нарочито педалируя грозное предостережение, говорит в одном из своих самых важных эссе: «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно» («Набережная неисцелимых»), потому что «Не в том суть жизни, что в ней есть, но в вере в то, что в ней должно быть» («Конец прекрасной эпохи»).
…Разумеется, отмеченные нами соприкосновения, пересечения ни в коем случае не говорят не только о заимствованиях, но не говорят даже о творческом влиянии И.С. Тургенева на Бродского. Источник сближения их мыслей, идей – принадлежность к одной, великой русской культуре, ее исторически сложившийся гуманный характер, вся похожесть укладывается в российскую традицию, в основе которой «всечеловечность» русской культуры, человеколюбие.
И еще одно их объединяет: Бродский, оказавшись не по своей воле надолго, до конца жизни далеко от Родины, сохранил любовь и интерес к ней, русскому языку, истории, культуре. Не случайно поэтому часто говорят: «гражданин мира», представленный в XIX веке Тургеневым, в 20-м повторился в Бродском.
Генри Джеймс, американский писатель, много лет проживший в Европе, крупная фигура трансатлантической культуры рубежа XIX и XX веков, говорил, что за Тургеневым «… всегда стояла Россия. Думаю, это подойдет и к Бродскому».
С.Я. Гехтляр